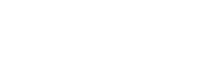Из воспоминаний Мая:
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ [1986-1987]
Участие в анималистических выставках привело нас с Витей Дувидовым к неожиданному предложению. В Москве создавался новый палеонтологический музей. Большое впечатление производило само здание, силуэтом напоминавшее средневековый замок, Бастилию.
Коллектив художников, декорировавших внутреннее убранство, возглавлял Саша Белашов. Он-то и пригласил Дувидова и меня сделать настенную роспись в зале динозавров - около двухсот квадратных метров живописи.
Масштабы и новизна задачи увлекли меня. И началась работа над эскизами. Работа шла в постоянном общении с учеными, и не только палеозоологами, но и с палеоботаниками, географами или геологами. Выяснилось, что во времена, в которые погружал нас
этот заказ, не было, к примеру, еще травы, росли лишь отдельные, редкие теперь виды деревьев - гинкго, болотные кипарисы. И, что было выигрышно для композиции, - лотосы.
Интерьеры музея были насыщены декоративным убранством.
Сам Саша Белашов работал над грандиозным керамическим рельефом. Рельеф этот располагался в разомкнутой круглой башне и по площади превосходил даже нашу роспись. И еще Саша придумал дополнительный эффект: пол и потолок этой во много этажей высо-
той башни были выстланы зеркалами, и, отражаясь в зеркалах пола и потолка, изображения рельефа уходили в бесконечность, как вверх, так и вниз. При осуществлении проекта этого были даже сомнения - не попытаются ли слабонервные посетители броситься в эту иллюзорную бездну! Героями белашовского рельефа были участники эволюции жизни от древнейших, простейших организмов внизу композиции до современных форм, до человека на вершине творения. Причем динозавры, мамонты, киты помещались почти
в натуральную величину!
Очень красивый керамический фриз сделала там Маша Фаворская. Ее темой была палеоботаника - древнейшие растительные формы. Белокаменные стены других залов покрывались резными, как бы гравированными изображениями древних существ. И полу-
чалось, что среди керамических, резанных в камне, декоративных по природе материала наша роспись была единственной настенной живописью. И задачи, поставленные учеными, отличались от белашовских и всех остальных. Если в других композициях должна была
быть отражена общая идея эволюции в условной декоративной трактовке, то наша роспись должна была изображать конкретный период с определенным ограниченным кругом животных, растительных форм и даже в конкретных (имелись в виду раскопки в Монголии)
геологических условиях, определявших пейзаж.
Общаясь с учеными, мы убеждались в зыбкости их представле ний, особенно о животных, о динозаврах. Если некоторые растения мы еще могли увидеть в ботаническом саду, куда ходили делать зарисовки, то, снабжая нас материалами, изображениями динозавров,
ученые всегда почти приговаривали, что изображения не верны, что они должны быть не такими, как на картинках. А какими? Тут у каждого было свое, не очень-то отчетливое представление. Разговоры, работа над эскизами тянулись около двух лет. Мы с Дувидо-
вым устроили как бы внутренний конкурс, разрабатывали каждый свой вариант композиции, цветового решения. Варианты Дувидова, склонного к яркому цвету, казались мне, учитывая огромную площадь росписи и сравнительно небольшую глубину зала, чрезмерно
интенсивными. Я же предлагал смягченную, как бы гобеленовую гамму, где все сущее окутано было маревом знойных испарений. Позже, когда Михаил Александрович Дудин смотрел роспись, он, по-моему, точно назвал ее «болотом жизни».
Роспись должна была существовать в неглубокой нише, в обрамлении неоштукатуренных красно-кирпичных стен, чередовавшихся, по замыслу архитекторов, с белокаменными. Архитекторы - Юрий Павлович Платонов и Леонид Борисович Коган поддержали мой
эскиз. Далее надо было показать эскиз на художественном совете.
Союз художников был изначально разделен на секционные группировки. По попыткам своим участвовать на выставках живописи я знал, как мешает ярлык графика, вторжение на «чужую территорию». Вторжение графиков на территорию монументалистов было
совсем уж нонсенсом, дерзостью невиданной. Монументалистский художественный совет откровенно дал понять, что мы - персоны нонграта. Вернее, я, потому что эскиз был моим. Монументалистов я знал плохо и среди членов того совета запомнил лишь Мерперта и Филатчева. Но против моего эскиза высказались все участники судилища.
И было очевидно, что эпопея окончена, так и не начавшись.
Тем временем стена готовилась уже к росписи. Комбинатовские мастера наносили на нее слои левкаса. Не знаю, уж как это им удалось, но архитекторы - Платонов и Коган, горячие сторонники моего эскиза, каким-то путем уладили отношения с советом.
И - о чудо! - эскиз мой без всяких, даже малейших исправлений был-таки утвержден.
У стенки были возведены три яруса лесов, и нам предложили приступить к росписи.
По существовавшим тогда расценкам огромная роспись эта должна была стоить очень дешево. Ввиду отсутствия изображения людей (а людей в те времена не было и в помине) она расценивалась как пейзажная, и вся работа должна была стоить около семи тысяч
на нас двоих. И это при том, что мастера, готовившие стену, все время требовали от нас денег, и немалых.
Пригодился оформительский мой опыт. Я, хоть и станковист, знал, что нужно сделать картоны. С детальной карандашной проработки композиции она перенесена была на бумажные полотнища с увеличением в натуральную величину. Добыв глицерина, я за-
мешал красящую пасту, которой мы покрыли изнанку картонов, и, подвесив полотнища к стене, начали перевод. Рисунок переводился достаточно четко. Но на больших бумажных площадях нанесенная паста оказалась чрезмерной для бумаги тяжестью, бумага рвалась
и падала на пол. Так или иначе, рисунок был все же перенесен, передавлен на стену. В процессе работы я не раз пожалел о том, что при увеличении картоны были выполнены небрежно, приблизительно, особенно в деталях. Так, сложные по форме листья лотоса были
лишь намечены небрежными кругами и форму их приходилось находить в процессе живописи. А обрамлявшие нижний край композиции лотосы, находясь на уровне глаз будущего зрителя, были особенно ответственной частью композиции.
По совету Андрея Васнецова я выбрал технику яичной темперы. Ириша сотнями закупала яйца, отделяла желтки и размешивала их с уксусом. На этом связующем красителе использовали обычную темперу и замешивали сухие красочные порошки.
Работу начал я с подмалевка, прорисовки коричневым и голубым колером всей композиции. Когда закончили подмалевок, коричнево-голубая стена выглядела довольно эффектно, и Витя заявил, что считает работу оконченной, что дальнейшая живопись только испортит стену. Возникли сложности и с еще одним участником, маляром, готовившим стенку и участвовавшим в изготовлении картонов, - Иванычем. Иваныч очень хотел принимать участие и в росписи. Он являлся утром, еще до меня, и усердно портил, что успевал, обводя формы дубовыми контурами. Не без скандала пришлось от него отказаться.
А когда я начал лессировать всю поверхность, погружая в золотистый туман, Дувидов прямо-таки ужасался, считая, что я все порчу, все испортил. Был такой момент, когда ужаснулся и я, решив, что и вправду испортил. Золотисто-желтая моя лессировка оказалась
чересчур интенсивной на большой площади, и понадобились большие усилия, чтобы как-то размыть, нейтрализовать и усложнить ее.
По замыслу моему из-за большой длины (28 метров) композиция плавно делилась на теплую - солнечную - левую часть и туманную серебристо-сумеречную - правую. И в конце концов роспись начала-таки поддаваться, приближаясь к первоначальному замыслу,
к эскизу.
У меня было два эскиза на оргалите, около полутора метров каждый. И пока мы работали, кто-то украл, унес оба эскиза! Может быть, это была месть отставленного Иваныча?
По счастью, вдоль противоположной росписи стены тянулась галерея, с которой можно было следить за ходом работы. Но бегать, карабкаясь по трем ярусам лесов на галерею и обратно, было не близко. Один из нас работал на лесах, а другой, с галереи, наблюдал
и подсказывал, где усилить, где пригасить.
Разводя колер в тазу, я с наслаждением писал кроны болотных кипарисов обычным веником, которым метут пол. Неофитство наше в монументальных делах делало работу особенно увлекательной, вынуждая к изобретательности. Так, местами я ввел в живопись
золотую и серебряную пасту, которая досталась мне при раздаче импортных художественных материалов.
На протяжении всей работы на стене я думал о ней всечасно, наверное, даже во сне, обдумывая, соображая следующий и следующий этап работы. Вспомнив свою работу в «Окнах ТАСС», применил трафареты для обозначения чешуй на теле, кажется, тарбозавра,
других тварей. Особенно трудно давались листья лотоса.
Иногда приходили на помощь доброхоты. Но, увы, они неизменно портили роспись, и приходилось снова и снова переписывать, исправлять. И, к сожалению, именно листья лотоса оказались местами подзамучены многократными исправлениями.
Неприятные сюрпризы явились, когда сняты были, наконец, леса. Разница освещенности трех ярусов, некоторая нестыковка писанных на разных ярусах частей фигур огромных персонажей требовала дополнительной работы. Заканчивать приходилось с огромной железной туры, двигать которую было очень и очень тяжело. И на этом этапе неоценимую помощь оказал Слава Шляндин уже тем, что помогал передвигать громыхавшую железную башню. С ловкостью обезьяны приходилось вскарабкиваться на нескладную железную конструкцию для того лишь, чтобы сделать два-три мазка. Затем слезать, бежать на галерею смотреть результаты. Это была настоящая гимнастика.
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ [1986-1987]
Участие в анималистических выставках привело нас с Витей Дувидовым к неожиданному предложению. В Москве создавался новый палеонтологический музей. Большое впечатление производило само здание, силуэтом напоминавшее средневековый замок, Бастилию.
Коллектив художников, декорировавших внутреннее убранство, возглавлял Саша Белашов. Он-то и пригласил Дувидова и меня сделать настенную роспись в зале динозавров - около двухсот квадратных метров живописи.
Масштабы и новизна задачи увлекли меня. И началась работа над эскизами. Работа шла в постоянном общении с учеными, и не только палеозоологами, но и с палеоботаниками, географами или геологами. Выяснилось, что во времена, в которые погружал нас
этот заказ, не было, к примеру, еще травы, росли лишь отдельные, редкие теперь виды деревьев - гинкго, болотные кипарисы. И, что было выигрышно для композиции, - лотосы.
Интерьеры музея были насыщены декоративным убранством.
Сам Саша Белашов работал над грандиозным керамическим рельефом. Рельеф этот располагался в разомкнутой круглой башне и по площади превосходил даже нашу роспись. И еще Саша придумал дополнительный эффект: пол и потолок этой во много этажей высо-
той башни были выстланы зеркалами, и, отражаясь в зеркалах пола и потолка, изображения рельефа уходили в бесконечность, как вверх, так и вниз. При осуществлении проекта этого были даже сомнения - не попытаются ли слабонервные посетители броситься в эту иллюзорную бездну! Героями белашовского рельефа были участники эволюции жизни от древнейших, простейших организмов внизу композиции до современных форм, до человека на вершине творения. Причем динозавры, мамонты, киты помещались почти
в натуральную величину!
Очень красивый керамический фриз сделала там Маша Фаворская. Ее темой была палеоботаника - древнейшие растительные формы. Белокаменные стены других залов покрывались резными, как бы гравированными изображениями древних существ. И полу-
чалось, что среди керамических, резанных в камне, декоративных по природе материала наша роспись была единственной настенной живописью. И задачи, поставленные учеными, отличались от белашовских и всех остальных. Если в других композициях должна была
быть отражена общая идея эволюции в условной декоративной трактовке, то наша роспись должна была изображать конкретный период с определенным ограниченным кругом животных, растительных форм и даже в конкретных (имелись в виду раскопки в Монголии)
геологических условиях, определявших пейзаж.
Общаясь с учеными, мы убеждались в зыбкости их представле ний, особенно о животных, о динозаврах. Если некоторые растения мы еще могли увидеть в ботаническом саду, куда ходили делать зарисовки, то, снабжая нас материалами, изображениями динозавров,
ученые всегда почти приговаривали, что изображения не верны, что они должны быть не такими, как на картинках. А какими? Тут у каждого было свое, не очень-то отчетливое представление. Разговоры, работа над эскизами тянулись около двух лет. Мы с Дувидо-
вым устроили как бы внутренний конкурс, разрабатывали каждый свой вариант композиции, цветового решения. Варианты Дувидова, склонного к яркому цвету, казались мне, учитывая огромную площадь росписи и сравнительно небольшую глубину зала, чрезмерно
интенсивными. Я же предлагал смягченную, как бы гобеленовую гамму, где все сущее окутано было маревом знойных испарений. Позже, когда Михаил Александрович Дудин смотрел роспись, он, по-моему, точно назвал ее «болотом жизни».
Роспись должна была существовать в неглубокой нише, в обрамлении неоштукатуренных красно-кирпичных стен, чередовавшихся, по замыслу архитекторов, с белокаменными. Архитекторы - Юрий Павлович Платонов и Леонид Борисович Коган поддержали мой
эскиз. Далее надо было показать эскиз на художественном совете.
Союз художников был изначально разделен на секционные группировки. По попыткам своим участвовать на выставках живописи я знал, как мешает ярлык графика, вторжение на «чужую территорию». Вторжение графиков на территорию монументалистов было
совсем уж нонсенсом, дерзостью невиданной. Монументалистский художественный совет откровенно дал понять, что мы - персоны нонграта. Вернее, я, потому что эскиз был моим. Монументалистов я знал плохо и среди членов того совета запомнил лишь Мерперта и Филатчева. Но против моего эскиза высказались все участники судилища.
И было очевидно, что эпопея окончена, так и не начавшись.
Тем временем стена готовилась уже к росписи. Комбинатовские мастера наносили на нее слои левкаса. Не знаю, уж как это им удалось, но архитекторы - Платонов и Коган, горячие сторонники моего эскиза, каким-то путем уладили отношения с советом.
И - о чудо! - эскиз мой без всяких, даже малейших исправлений был-таки утвержден.
У стенки были возведены три яруса лесов, и нам предложили приступить к росписи.
По существовавшим тогда расценкам огромная роспись эта должна была стоить очень дешево. Ввиду отсутствия изображения людей (а людей в те времена не было и в помине) она расценивалась как пейзажная, и вся работа должна была стоить около семи тысяч
на нас двоих. И это при том, что мастера, готовившие стену, все время требовали от нас денег, и немалых.
Пригодился оформительский мой опыт. Я, хоть и станковист, знал, что нужно сделать картоны. С детальной карандашной проработки композиции она перенесена была на бумажные полотнища с увеличением в натуральную величину. Добыв глицерина, я за-
мешал красящую пасту, которой мы покрыли изнанку картонов, и, подвесив полотнища к стене, начали перевод. Рисунок переводился достаточно четко. Но на больших бумажных площадях нанесенная паста оказалась чрезмерной для бумаги тяжестью, бумага рвалась
и падала на пол. Так или иначе, рисунок был все же перенесен, передавлен на стену. В процессе работы я не раз пожалел о том, что при увеличении картоны были выполнены небрежно, приблизительно, особенно в деталях. Так, сложные по форме листья лотоса были
лишь намечены небрежными кругами и форму их приходилось находить в процессе живописи. А обрамлявшие нижний край композиции лотосы, находясь на уровне глаз будущего зрителя, были особенно ответственной частью композиции.
По совету Андрея Васнецова я выбрал технику яичной темперы. Ириша сотнями закупала яйца, отделяла желтки и размешивала их с уксусом. На этом связующем красителе использовали обычную темперу и замешивали сухие красочные порошки.
Работу начал я с подмалевка, прорисовки коричневым и голубым колером всей композиции. Когда закончили подмалевок, коричнево-голубая стена выглядела довольно эффектно, и Витя заявил, что считает работу оконченной, что дальнейшая живопись только испортит стену. Возникли сложности и с еще одним участником, маляром, готовившим стенку и участвовавшим в изготовлении картонов, - Иванычем. Иваныч очень хотел принимать участие и в росписи. Он являлся утром, еще до меня, и усердно портил, что успевал, обводя формы дубовыми контурами. Не без скандала пришлось от него отказаться.
А когда я начал лессировать всю поверхность, погружая в золотистый туман, Дувидов прямо-таки ужасался, считая, что я все порчу, все испортил. Был такой момент, когда ужаснулся и я, решив, что и вправду испортил. Золотисто-желтая моя лессировка оказалась
чересчур интенсивной на большой площади, и понадобились большие усилия, чтобы как-то размыть, нейтрализовать и усложнить ее.
По замыслу моему из-за большой длины (28 метров) композиция плавно делилась на теплую - солнечную - левую часть и туманную серебристо-сумеречную - правую. И в конце концов роспись начала-таки поддаваться, приближаясь к первоначальному замыслу,
к эскизу.
У меня было два эскиза на оргалите, около полутора метров каждый. И пока мы работали, кто-то украл, унес оба эскиза! Может быть, это была месть отставленного Иваныча?
По счастью, вдоль противоположной росписи стены тянулась галерея, с которой можно было следить за ходом работы. Но бегать, карабкаясь по трем ярусам лесов на галерею и обратно, было не близко. Один из нас работал на лесах, а другой, с галереи, наблюдал
и подсказывал, где усилить, где пригасить.
Разводя колер в тазу, я с наслаждением писал кроны болотных кипарисов обычным веником, которым метут пол. Неофитство наше в монументальных делах делало работу особенно увлекательной, вынуждая к изобретательности. Так, местами я ввел в живопись
золотую и серебряную пасту, которая досталась мне при раздаче импортных художественных материалов.
На протяжении всей работы на стене я думал о ней всечасно, наверное, даже во сне, обдумывая, соображая следующий и следующий этап работы. Вспомнив свою работу в «Окнах ТАСС», применил трафареты для обозначения чешуй на теле, кажется, тарбозавра,
других тварей. Особенно трудно давались листья лотоса.
Иногда приходили на помощь доброхоты. Но, увы, они неизменно портили роспись, и приходилось снова и снова переписывать, исправлять. И, к сожалению, именно листья лотоса оказались местами подзамучены многократными исправлениями.
Неприятные сюрпризы явились, когда сняты были, наконец, леса. Разница освещенности трех ярусов, некоторая нестыковка писанных на разных ярусах частей фигур огромных персонажей требовала дополнительной работы. Заканчивать приходилось с огромной железной туры, двигать которую было очень и очень тяжело. И на этом этапе неоценимую помощь оказал Слава Шляндин уже тем, что помогал передвигать громыхавшую железную башню. С ловкостью обезьяны приходилось вскарабкиваться на нескладную железную конструкцию для того лишь, чтобы сделать два-три мазка. Затем слезать, бежать на галерею смотреть результаты. Это была настоящая гимнастика.